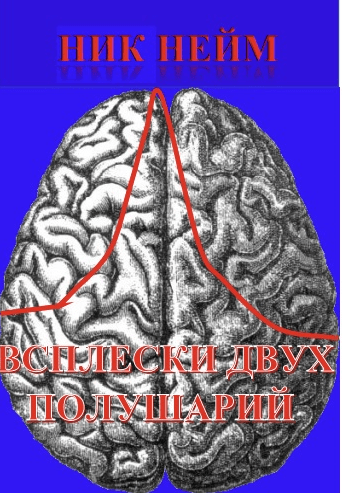
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ТАМ (Восточное полушарие)
ПРЕДИСЛОВИЕ – Как я стал писать книгу
Я давно хотел написать о двух тяжёлых потерях: маме и друге. Они случились одна за другой, не оставляя мне времени для размышлений. А чистые эмоции я не привык заносить в “корабельный журнал”.
И вот, время шло, а я всё как-то молчал. Ну, наверно, не как-то, а думал, осознавал. И однажды начал писать о друге, о том, как мы познакомились. Писалось легко. Это был рассказ не о тяжёлых минутах, а о светлой памяти. Однако, перечитывая страницы, я неожиданно заметил, что рассказываю о друге через себя: свои эмоции и ощущения. До меня дошло, что это – мои воспоминания. И я понял, что я пишу не рассказ, а книгу: о своей жизни, семье, друзьях и времени.
ГЛАВА ПЕРВАЯ – Старая квартира
Мои самые ранние воспоминания относятся к старой квартире. Состояла она из одной комнаты с окном в чужой двор и застеклённой галереи-кухоньки. Когда-то это жильё принадлежало бабушкиной тётке, Асе – носатой худой сутулой старухе. Про Асю имелось семейное предание: она обожала своего мужа, (в честь которого назвали меня), и когда его призвали в армию в Первую Мировую, последовала за ним сестрой милосердия.
Брусиловский прорыв забросил их в Галицию, где однажды вечером в местном кабачке Ася слишком вызывающе посмотрела на французского офицера – наблюдателя Антанты в русских войсках. Дядя Ник, естественно, не нашёл лучшего способа вернуть к себе её внимание, чем потушить сигарету об её ладонь.
Я всегда поражался этой истории. Никаких других признаков свирепого нрава дяди Николая в семье не существовало. На фотографиях – это полный улыбчивый мужчина, снимавшийся то с любимой женой, то, за неимением собственных детей, с детьми родственников и друзей.
В мои школьные годы я применил к исследованию вопроса научный метод, осмотрев через лупу обе Асины руки с двух сторон. Никаких шрамов я не обнаружил, из чего заключил, что ревнивость дяди Ника была сильно преувеличена и раздута в пропорциях немого кино, где уровень эмоции необходимо выразить соответствующим действием. Я пришёл к выводу, что, скорее всего, он просто стряхнул горячий пепел ей в ладонь.
Ася не имела собственных детей и безумно любила внучатых племянников: моего дядю и отца. Мою тётю она тоже любила, но к мальчишкам относилась как к принцам крови. Как только старший, мой дядя Абель, подрос, она отдала ему свою квартиру и переехала к деду экономкой. Когда дядя развёлся с первой женой и уехал на стройки коммунизма, квартира перешла к моему отцу. Не могу сказать, что я родился в ней, но довольно скоро после рождения, то есть в младенческом возрасте, поселился там.
Говорят, что я был забавным малышом с васильковыми глазами и огромными ресницами. Что ж, не удивлюсь. Глядя на маму, голливудскую красавицу, мне становится лишь жаль, что это всё, что мне от неё досталось. Да и то, длинные ресницы – единственное, что по-прежнему больно колет мои глаза, правда уже совсем другого цвета.
О детских годах у меня остались отрывочные воспоминания: огромная, до потолка, ёлка, новогодние подарки на подоконнике – книжка с яркими картинками (Буратино или Пиноккио) и большущий кулёк с бати-бути (попкорном); часы-ходики на стене, упавшие на голову спящему отцу, но даже не разбудившие его этим ударом; сервант, где в хрустальных бокалах отражалась ярко-красная картонная коробочка с шоколадными копейками и чемодан с игрушками под моей кроватью.
Помню, как однажды я споткнулся об него, грохнулся на пол и больно ушиб левую руку. Папа, уставший после работы, был очень недоволен, что сын-размазня никак не перестанет плакать, и даже всыпал мне по попе. Было очень обидно, что он не верит, как мне больно, и не ведёт меня к доктору. Но у меня была ещё мама, поэтому перелом в госпитале обнаружили и спасительный гипс наложили в тот же вечер.
Мама часто вспоминала, что в первые годы жизни у меня был свой собственный язык, который необходимо было знать тому, кто хотел меня понимать. Например, я называл картошку – кагагой, а клубнику – кубабой. Мама когда-то записывала в тетрадку мои таинственные слова и смешные замечания. Увы, кагага с кубабой и лишь пара историй – то, что осталось в моей памяти.
Однажды папа рассказал, как жестами попросил продавца дать ему попробовать сыр.
– И продавец подумал, что я немой! – сказал папа.
Мне очень понравилась эта история, и я потом часто просил маму пересказать, как продавец подумал, что папа “не наш”.
С классикой мы дружили. Мама декламировала из Некрасова: “И шествуя важно, в спокойствии чинном…” – “Лошадку ведёт за усы мужичок”, – откликался я. Но как-то раз мама пошутила: “Не пылит дорога, высохли цветы,” – смешала она Плещеева и Лермонтова. – “Подожди немного, высохнешь и ты,” – немедленно отозвался на это маленький Ник.
Я помню, что долго любил соску. Она была у меня чем-то вроде жевательной резинки. Я уже хорошо умел говорить. Люди вокруг поражались, что малыш вынимает изо рта соску и задаёт им вопросы. Я также угощал соской, тех, кто мне нравился. А нравились мне нередко люди в форме. Однажды в парке на скамейке я увидал милиционера, перекусывающего чуреком и сыром. Вытянув руку, я пошёл с ним здороваться. Разумеется, он не понял жеста и вложил в протянутую длань бедного ребёнка кусок хлеба. На что ребёнок вынул изо рта соску и сказал: “Пососи, дядя милиционер!”
И папа, и мама прекрасно говорили по-немецки. Мама училась в немецком детском саду, и это был её практически родной язык. Папа учился в немецкой школе, где все предметы велись на немецком. Он бы так и закончил эту школу, если бы всех немцев не выслали в Казахстан, на случай грядущей войны.
Однако, несмотря на прекрасную возможность научить меня иностранному языку, родители предпочли оставить его для себя как средство секретного общения. И вот, лежат они как-то в темноте в кровати и болтают по-немецки, а возмущённый сын им говорит: “Ну, сколько можно секретничать! Вам что больше делать нечего?”
Но поговорить я любил. Отец брал меня с собой в парикмахерскую, где я начинал рассказывать байки, что я – капитан, у меня – корабль, и мы ловим пиратов. Истории были такие остросюжетные, что все разговоры смолкали, посетители слушали только меня, сложившего за спиной руки и меряющего парикмахерскую из угла в угол пошатывающейся походкой морского волка. В парикмахерской отцу говорили: «Стрижка – за так, если сына-капитана приведёшь».
Во дворе и на балконе водились дети. Соседского мальчика я не помню. Ему было лет пять или шесть, большой, толстый с холёными белыми ляжками. И я – трёх-четырёхлетний заморыш (дедушка, папин отец, звал меня зябликом), которому очень нравилась эта плоть. Понятий пола у меня тогда ещё не существовало, поэтому увидав на балконе вожделенные ляжки, я вытягивал вперёд руки, сгибал пальцы в виде когтистых лап и шёл в психическую атаку. И паренёк, которому не составляло труда одним щелчком смести меня, бежал в панике и с воплями…
Курдские дети в нашем дворе прознали о моих подвигах и решили одолеть хитростью. Они говорили:
– Ты не сумеешь поднять стульчик и бросить в нас.
– Сумею! – уверял я.
– Или не поднимешь, или не добросишь.
– И подниму, и доброшу!
– А вот и врёшь!
– А вот и нет! – кричал я в бешенстве, хватал свой маленький детский стульчик и швырял в них с балкона.
Но они, юркие и подвижные, со смехом разбегались во все стороны. Не было случая, чтобы я в кого-нибудь попал. Мои неудачные атаки по достоинству оценил соседский мальчик из богатой семьи с противоположного конца двора. У него были свои счёты с этими «люмпенами» из подвалов. Он сказал:
– Стулом бросаться неудобно, надо камни кидать.
– Какие камни? – спросил я.
– Булыжники. Их можно выкопать, – и показал на мощённый двор.
Повозившись, мальчик расшатал и вынул один из них. Пока он выковыривал второй, я поднял на плечо первый. Но булыжник – не стульчик: он тяжёлый и скользкий. Удержать его в детских руках нелегко, и я выронил камень прямо на голову моего добровольного наставника. Кровью залило полдвора. С тех пор курдские дети ко мне уже не приставали.
Во дворе жила ещё красивая девочка по имени Нетта. Она была лет на восемь-десять старше меня. Однажды она подарила мне прекрасную открытку с синим морем и белым пароходом. Не знаю, почему я запомнил это ничем не примечательное событие. Позже Нетта жила в той же квартире, опускаясь всё ниже и ниже: алкоголизм, проституция, наркомания. Иногда я думаю, может открытка была её единственной надеждой, которую нельзя было брать себе?
Последнее, что я припоминаю про старую квартиру – это визит маминых родителей. Как они поместились в этой крошечной квартире вместе с нами, где спали – остаётся для меня тайной. Видимо, ставили на ночь раскладушки: тогда к совместному проживанию относились проще…
Однажды родители, пользуясь возможностью, оставили меня под присмотром дедушки с бабушкой и ушли в кино. Дед пил чай за столом – как сейчас вижу – сидел спиной к двери. Бабушка караулила, чтобы я не сбежал с горшка и хорошо трудился. Внезапно дедушка застонал от боли в сердце и откинулся на спинку стула. Он сидел, раскинув руки, и мелко вздрагивал.
– Гиляра! – запричитала бабушка.
Я ничего не понял, кроме того, что нужна помощь, и с голой попой выскочил на тёмный балкон. Соседского мальчика с толстыми ляжками как ветром сдуло. На другом конце балкона показались силуэты мужчины и женщины в макинтошах по моде того времени.
– Папа! Мама! Дедушке плохо! – орал я что было сил.
Это оказались соседи, которые и вызвали скорую. Но в те годы домашние телефоны были редкостью, надо было бежать к автомату…
Подробностей я не знаю. Я даже на кладбище не был. Меня увели пожить у родственников, которых я развлекал рассказами о синем море и моем корабле, бесстрашно плывущем по нему в будущее…