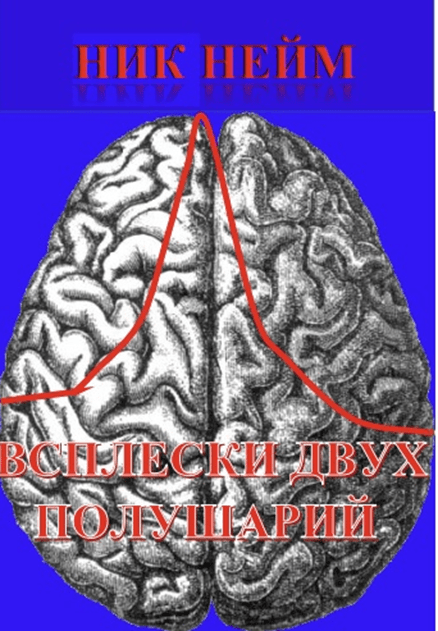
Часть Первая – Там (Восточное Полушарие)
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ – ЛЕТОМ НА ДАЧАХ
Летнее время в каком-то смысле было особым временем для многих советских детей. Во время занятий редкому школьнику удавалось путешествовать, на коротких каникулах – только тем, кому повезло с достатком в семье, но уж за три летних месяца большинство где-нибудь да бывало. Хотя бы в пионерлагере. В этом смысле – у меня было типичное советское детство. И я его хорошо помню.
Первое и второе школьное лето прошли на даче в Кикети, в горах. Как это было принято, переезд на дачу была целой кампанией. Вначале, папе надо было поехать в деревню, осмотреть сдающиеся комнаты и оставить задаток, за выбранную. Весь арсенал их мало отличался друг от друга, разве что величиной комнаты, количеством окон, краном на балконе или во дворе, а то и простым рукомойником, в который воду надо было носить из колодца или родника, туалетом во дворе или бог весть где, за садом и огородом. Все эти детали, а также куча других, более или менее существенных для дачников, влияли на цену съёма. Но тот, кто представляет это просто арендой помещения без удобств, либо не в курсе дел, либо порядком подзабыл прошлое.
Комната сдавалась без мебели. Абсолютно пустая! Доставка постелей и обстановки, и вывоз их обратно, была задачей нанимающего, и к цене жилья отношения не имела, хотя и значительно повышала стоимость летнего отдыха. А вот время проживания не оговаривалось. Просто – тёплое время – три летних месяца и, если угодно, май и сентябрь. Ведь комнаты в межсезонье пустовали, и хозяевам было безразлично, проживут ли квартиранты два или пять месяцев за ту же плату. Это как в наше время приглашать в гости вне зависимости от частоты посещения гостями хозяйского туалета.
Самое близкое к городу село, Цхнети, было самое дорогое. Возможно поэтому два года мы отдыхали в Кикети, более удалённом и более дешёвом месте. Когда я вырос, то узнал другую причину, по которой некоторые мои приятели предпочитали более удалённые сёла – жёнам труднее было нагрянуть оттуда с неожиданной ревизией.
Там на даче, за долгое лето, много чего случалось, но в памяти задержалась лишь малая часть. Там я был свидетелем как мирная лошадь молочницы укусила соседскую девочку в лицо, содрав ей со щеки кожу и перепугав при этом и детей, и взрослых, и саму хозяйку лошади. Я видел, как мальчишка выстрелил из воздушки – духового пневматического ружья и попал свинье в геморроидальный узел, болтающийся у неё на попе словно тугой коричневый мешочек. Мешочек от выстрела лопнул, тёмная кровь залила траву, а свинья, визжа как ребёнок, умчалась в леса. Не ожидая такого эффекта от своего случайного попадания, мальчишка разрыдался и, держа винтовку за ствол, как дубинкой с размаху шарахнул ею об дерево. Отдача вырвала её из слабых рук и опустила на лоб его брата. Словом, я понял, что из оружия либо стреляешь в цель, чтобы попасть, и не жалеешь об этом, либо держишь его подальше, а не играешь с ним. Это мне пригодилось потом, когда папа принёс домой воздушку, или, когда я стырил бесхозный «Вальтер».
Своих кикетских друзей я помню плохо. С мальчишками мы играли вокруг наших дач, а иногда забирались в окружающий лес. Здесь мы были в относительной «свободе» без надзора наших мам, пока призывы издалека не заставляли кого-нибудь из наших рядов сгонять в качестве курьера на «большую землю» и перечислить всех, кто был в лесной компании. Эта мера предосторожности была понятна, не вызывала протеста и нередко позволяла отсрочить возвращение домой. В лесу мы играли в индейцев и следопытов, жгли костры, учились печь в них картошку и самое таинственное – курили. Нет, пока ещё не табак, а сушёную солому. Я даже не знаю, что это было за растение, чьи полые стебли я аккуратно срезал бритвой, нарезал на трубочки одинаковой длины и высушивал на солнце, пока они не превращались в золотые соломинки. Свои самодельные папироски я хранил в папиной коробке из-под «Курортных» совершенно открыто. Никому и в голову не приходило, что прилежный домашний мальчик – заготовитель «детского зелья». Когда стебли высыхали, то годились для курения: их пряный, чуть кисловатый дымок приятно охлаждал рот и придавал курильщику долю уверенности в себе и престижа среди окружающих мальчишек.
Кроме ровесников мы иногда заводили себе знакомых среди местного населения: любители лошадей – конюха, коров – пастуха. Меня в то время интересовало собирательство. Рядом с селом начинались леса, в которых росло множество дикорастущих фруктовых деревьев, ягод и грибов. Я видел, как люди собирали полные корзинки этого добра. Мне тоже хотелось научиться понимать лес. Это послужило поводом познакомиться с одинокой старушкой, жившей поблизости в маленькой развалюхе. Работала она уборщицей в санатории, ходила в какой-то робе, подпоясанной верёвкой и резиновых сапогах. В свободное время она собирала грибы, сушила их и продавала дачникам. Не помню, как мы познакомились, наверно, я расспрашивал её про растения. Вежливый симпатичный малыш понравился одинокой женщине, и она обучила меня собирать грибы. Потом я расскажу, как я использовал это умение в пионерском лагере через пару лет. А пока что у меня появился личный знакомый из местных. Однако местной её можно было назвать лишь с виду. Говорила тётя Надя на чистейшем русском языке и употребляла старинные слова. Например, моим образованием она поинтересовалось так:
– А вы, молодой человек, гимназист какого класса?
Однажды, к моему удивлению, когда мы с ней перебирали собранные грибы, тётя Надя, зная уже мою любовь к приключениям и таинственным историям, предложила:
– Хочешь, Ник посмотреть на что-то старинное?
Я, разумеется, без колебаний согласился. Тогда она буквально заползла под убогую кровать и извлекла оттуда облезлый чемодан, хранящий её реликвии. Из груды тряпья она извлекла массивный фотоальбом. Большинство его страниц были пусты, но начинался он с группового снимка. В центре, окружённые будто стаей лебедей свитой миловидных девушек в белых бальных платьях, стояли царь Николай II с царицей Марией.
– А это я, – сказала тётя Надя, указав на молодую девушку, – фрейлина её императорского величества, княгиня Трубецкая.
Я был сражён. Уборщица-оборванка, подпоясанная вервьем, в резиновых сапогах оказалась… принцессой, как Золушка.
– А что стало с царём и царицей? – спросил я. – Их арестовали?
Я уже лично знал двух жертв: княгиню Орбелиани и княгиню Трубецкую.
– Нет, Ник, хуже. Их казнили – расстреляли всю семью вместе с детьми слугами и врачом, господи, упокой души их.
Мне стало грустно. Так вот, что означало «сказку сделать былью», а может – болью?
В Кикети я научился кататься на двухколёсном велосипеде. Вначале у меня не получалось держать равновесие, но хотелось прокатиться c ветерком. Тогда я стал съезжать с горки, держа ноги вразлёт, как на осле, а один раз понял, что на ровной дорожке их уже можно поставить на педали и ехать дальше. В выходные приехал папа, и я решил продемонстрировать свой новый трюк. Как в таких случаях и бывает, я кувыркнулся с велосипеда, а руль больно надавил мне на горло. Словом, демонстрация та ещё получилась!
Но не это была моя самая большая травма в Кикети. Однажды мы, мальчишки, лазали на чей-то мотоцикл с коляской – осваивали его, перелезали с одного места на другое, словом, вели себя как муравьи, облепившие неожиданную большую находку. И одному муравью, немного не повезло. Слезая задним ходом с заднего сидения, я под конец спрыгнул. Неожиданно острая боль пронзила левое колено, горячая кровь залила землю вокруг. Это острый край мотоциклетного номера раскроил мне колено. Белоснежные кости виднелись из раны. Каха, соседский мальчик, потерял сознание от этой картины. Но ничего особенного не случилось. Мама засыпала рану толчённым стрептоцидом и туго перевязала. Всё быстро зажило, но долгие годы у меня на левой ноге красовался длиннющий шрам. Со временем он укоротился до 3 см. Это всё, что напоминает мне о моём первом знакомстве с мотоциклами.
Как-то к нам приехали папины родственники из Баку: двоюродный брат с женой и дочкой Белкой, по прозвищу Стрелка, в честь собачек Белки и Стрелки, удачно слетавших в космос. Мы с Белкой-Стрелкой непрерывно шутили и смеялись, не хотели есть, а мама с большим, как я думал от минералки, животом сердилась на нас и даже выбрасывала завтрак за перила. Тут уж мы вообще не могли остановиться!
Но следующее лето было ещё веселее. Нас стало больше. Мы уже проводили будние дни не вдвоём, а вчетвером. Кроме сестрички Майечки с нами поселилась её няня, тётя Паша Альперт. Это была пожилая еврейская женщина родом из какого-то белорусского села, с широченными, вечно босыми ступнями и хорошим чувством юмора. Когда моя сестричка не хотела спать, тётя Паша пыталась припугнуть её серым волком и ходила выть под окном, довольно громко, в голос. Как-то раз к соседям-дачникам приехал гость. Идёт он мимо нашей дачи, а Паша вдруг как завоет.
– Женщина, вам плохо? – спросил он с участием.
– Напротив, хорошо, – пошутила Паша. – Посмотрите, какая Луна полная, – и завыла, – А-у-у-у! А-у-у-у!
Мужчина в ужасе убежал.
Однажды я поймал утёнка. И он, и я просто гуляли по лугу. Утёнок был мягкий, покрытый жёлтым пухом птенец, но уже гуляющий в одиночку, как и я. Я держал его в руках и раздумывал, что бы мне с ним сделать – власть моя над этим крошечным существом была безгранична. Первая мысль была поискать его семью, но поблизости никого не было, ни людей, ни уток, ни утят. Домой нести его было бесполезно. Теперь, когда у нас был маленький ребёнок, мама не пустила бы в дом никакую живность «вместе с бактериями». Оставить на дворе означало смерть – дети могли замучить; свиньи, собаки и даже люди могли его съесть.
И тогда мне пришла в голову крамольная мысль: если уж ему всё равно выпало помереть, то пусть послужит исследованиям, как собака Лайка, сгоревшая заживо в ракете. Нет я не собирался зажарить утёнка живьём. Я задумал проверить, что происходит с живым существом, свалившимся в деревенский сортир. Этот вопрос вызывал большие споры в мальчишеской компании. На наших дачах не было современных туалетов, потому что канализация как таковая отсутствовала. Все пользовались деревенскими сортирами – шаткими деревянными домиками, установленными над громадной выгребной ямой, в которую собирались нечистоты. Раз в два-три года приезжала цистерна ассенизаторов и откачивала дерьмо центнерами. Нередко отверстие в полу было такое большое, что дети беспокоились, как бы не свалиться в зловонную массу. Этими страхами и были вызваны наши споры, что же произойдёт с таким неудачником. Пессимисты утверждали, что его ждёт быстрая неминуемая смерть, потому что плавать в плотной среде невозможно, и описывали агонию несчастного, заглатывающего дерьмо. Оптимисты считали, что масса не сплошная, в значительной степени состоит из разлагающейся мочи, поэтому пловцы сумеют держаться на поверхности и мучения их будут долгими, потому что крики из-под земли плохо слышны.
Видимо обеспокоенный этими разговорами, я решил поставить эксперимент на утёнке: сумеет ли он плавать в дерьме и будут ли слышен из ямы его голос. С этими мыслями, с утёнком в руках, я направился к ближайшему сортиру. Маленький пушистый комочек сидел у меня на руках прекратив бесплодные попытки освободиться. Но чем ближе я подходил к сортиру, тем медленнее шёл. Ноги мои наливались свинцом. Я представлял себе, как бедный утёнок в ужасе плавает в говне и зовёт свою маму. А я, запустив свой адский эксперимент, уже ничем не смогу ему помочь. Как он всё слабеет, пока не завалится набок, и жирные сортирные мухи не облепят его тельце. Слёзы застлали мне глаза, я тяжело задышал и разрыдался. Это был катарсис. Утёнок был спасён. С мокрым, но просветлевшим лицом я радостно направился к домику тёти Нади Трубецкой и подарил ей своего пушистого друга. Я рассказал ей, как нашёл утёнка и как хотел поставить на нём опыт, но не смог – пожалел.
– Это Бог указал тебе верный путь! – сказала она, перекрестив меня. – Благословен тот, кто внемлет его советам.
Я пытался вспомнить, кто бы мне советовал что-либо про утят в сортире. Таких не нашлось, и я понял, что, хорошенько подумав и представив себе ситуацию, человек может найти из неё выход, который не сразу ясен.
После рождения сестрички мои родители беспокоились, что я буду ревновать, из-за их повышенного внимания к ребёнку. Мне всегда казалось это смешным и странным: какая там ревность, я и сам проявлял повышенное внимание к ребёнку. Но как оказалось, подобные страхи имели под собой основания. В нашей деревне во второе лето появилось немало малышей. Может причиной тому был свежий лесной воздух?
В семье у соседей, где был мальчик Каха, мой ровесник, тоже появился малыш. Как-то раз Каха долго просил лимонада, но родители всё откладывали его просьбу, занимаясь грудным. А потом, закончив дела и уложив ребёнка в коляску, налили старшему полный стакан. Внезапно Каха стрелой промчался к лесу и вскарабкался на высокий вяз, а все соседи услыхали вопли родителей. Затем прибежал отец Кахи с ремнём в руках. Так и не догнав сына, он отхлестал дерево ремнём, ругаясь и грозя наследнику всякими ужасами. Когда отец немного остыл и вернулся домой, соседские мальчишки, включая меня, осторожно приблизились к дереву и поинтересовались у скулящего Кахи, что же он натворил. Оказалось, что в приступе обиды на родителей, отдававших всё внимание малышу, он тоже отдал братику свой стакан лимонада, опрокинув и прижав его к носу и рту ребёнка, запелёнатого в коляске. К счастью их мама захотела проверить, как спится грудному, и спасла сына. Весь день до поздней ночи мальчик укрывался на дереве, а мы носили ему туда еду. Вечером его папа уехал в город, и Каха осторожно вернулся домой…
Ещё одно лето прошло в смешанном режиме: мама с Майкой жили на даче, а я уде нет. Я жил рядом, в пионерском лагере. Папа снял дачу в Манглиси, ещё дальше от города и выше в горах, где росли сосны, и хвойный воздух был упоительным. Теперь у папы была машина, приезжать на выходные ему было легче. Меня впервые отдали в пионерский лагерь. Лагерь в Манглиси принадлежал штабу Закавказского военного округа, а путёвку туда достала моя тётя Лия, преподававшая игру на аккордеоне в Доме офицеров. Дача была снята через овражек от южного забора лагеря. Это было спланировано на случай, если мне будет тоскливо и захочется улизнуть домой. Но лагерь мне очень понравился, а порядок не тяготил. Я научился ходить строем, стелить постель без единой морщинки, делать физкультуру каждое утро и мыть ноги холодной водой каждый вечер. Но самое главное, я подружился со многими ребятами на всю жизнь. Я всегда поминаю добрым словом этот лагерь и вспоминаю интересные рассказы из летних месяцев в разные годы.
Но этот год был как бы переходным от дачной жизни к лагерям. Это также был последний год, когда мы отдыхали вместе с папой. Да что там отдыхали – жили! Но этого никто тогда не подозревал и не мог даже предположить.
В лагере я попал в четвёртый отряд. Отряды были по классам, а я как раз перешёл в четвёртый класс. Тогда впервые я увидал как взрослые пионеры живут в больших брезентовых палатках. О, когда я подрасту, я тоже попаду в такие! Это было вроде кружка по рисованию, о котором мы мечтали или на коммунизм, который настанет, когда мы подрастём. Но ничего этого не сбылось: ни кружка, ни палаток и ни коммунизма.
А за лагерным забором жила моя семья. Я иногда навещал их и подъедал витамины, которые мама старалась скормить мне во фруктах. У Майечки, моей сестры, нередко возникала желудочная инфекция, тогда врач из лагеря делала ей промывание желудка через зонд, вставленный в нос. Майе эта процедура очень не нравилась, возможно она даже влияла на её отношение к врачу, очень чуткой и милой женщине.
Как-то раз я заболел. Простыл, горло обложило, поднялась высокая температура. Я загремел в санчасть (санитарную часть). Это был отдельный домик с медицинским кабинетом и двумя-тремя палатами для больных. Работали там доктор и медсестра. Обе – наши знакомые, растившие дочек без мужей и на лето устраивавшиеся на работу в пионерлагерь, чтобы вывезти детей в горы бесплатно. Тётя Юля Фейгина была врачом и нравилась мне ужасно. В городе она была нашей соседкой, и иногда лечила меня и сестру. Помню, что мне становилось легче уже от одного её визита. Но в то лето, в санчасти, где я провёл пару суток, самым запоминающимся оказался мальчишка, который спросил:
– Ругаться умеешь?
– А то! – подтвердил я.
– Тогда слушай, – и он отбарабанил мне две поэмы: про зверей, и про Таню-комсомолку.
Если вы думаете, что это что-то вроде Маяковского про ребят или про зверят, то глубоко заблуждаетесь. «Рано утром встали звери, потянулись, попердели и решили: хватит спать, мы пойдём сейчас посрать!» Это наименее неприличные строки в обеих поэмах.
Как тюремная матерная лирика нашла свою дорогу к детям? Сказать трудно. Видимо передаточным звеном от зэков к пионерам были солдаты, охранявшие и тех, и других. Словом, за полчаса я узнал все слова русского матерного жаргона и впоследствии за всю жизнь встретил лишь одно слово, каким-то образом ускользнувшее от внимания тюремного пиита.
Я не хочу просто перечислять лагерную активность: мы дежурили по всему лагерю (несли караул на воротах и вдоль забора, были посыльными у директора и старшего пионервожатого, помогали в столовой накрывать столы, а на кухне готовить обед, мыли пол в палатах). Хоть в лагере и кормили сытно, но иногда нас тянуло съесть что-нибудь необычное. Мы пробирались в котельную позади столовой и пекли в топке печи картошку, выклянченную на кухне. Мы жарили лягушек. Ловили, пристукивали, отрезали задние лапки, сдирали шкуру и поджаривали на огне. От молодого цыплёнка – не отличить!
Мы играли в военные игры, устраивали спортивные соревнования и карнавалы. У нас был шумовой оркестр, а я дирижировал им. Мне сделали цилиндр и галстук-бабочку. Певицей в нашем оркестре была дочка директора лагеря, но несмотря на это пела она здорово и справедливо получила награду.
В мастерской лагеря умельцы строили деревянные модели кораблей. А я научился делать лодки из мягкой коры сосен. Интересно, были ли они связаны с белым пароходом моего счастливого детства? Думаю, были… Время текло, а всё расширяющаяся флотилия растущего капитана двигалась вперёд к далёкому новому веку.