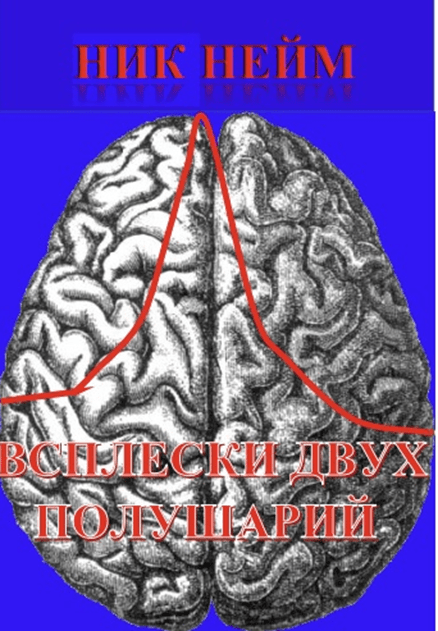
Часть Первая – Там (Восточное Полушарие)
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ – ФИЗФАК. ПЯТЫЙ КУРС. СОБЫТИЯ
Последний год в университете прошёл под эгидой дипломной работы. Конечно, мы были ещё студентами, и даже “День Физика” состоялся, но всё это было слегка в стороне от новой научной жизни. Такой нам представлялась тогда дипломная работа.
День физика уже проводили молодые ребята, которые два года назад искренне попросили: “Научите нас делать День Физика”. Мне очень хотелось научить их делать яркий праздник из серых будней. И мы с двух сторон это сделали! Поэтому я уже ни в каких организационных делах не участвовал, просто читал доклад, смотрел концерт, словом, присутствовал как почётный гость.
Мои мысли крутились вокруг дипломной работы. Очень хотелось поехать в какой-нибудь центральный исследовательский институт. Надо сказать, что многие наши ребята готовились разъехаться по стране, выбрав для диплома крупные научные центры. Эли и Денис – в Пущино, Слава – в Гатчину, Антон – в Киев.
Я остался дома. Я нужен был здесь.
Но, видимо, не придумывать развлечений я не мог, и я решил во время последнего учебного семестра хоть раз в жизни взглянуть на звёзды через настоящий современный телескоп. Такие, я полагал, имелись в Абастуманской астрофизической обсерватории. И я задумал там побывать. Директором её многие годы был академик Харадзе. И я без стеснения пошёл с ним знакомиться. Принял он меня радушно и сразу же согласился принять в горах студенческую делегацию: четверых биофизиков и троих теоретиков. Он подробно выспрашивал, какие причины привели нас к телескопам, надеялся, что кто-то захочет заниматься астрофизикой профессионально. Но я был предельно честен:
– Думаю, что стыдно доучиться до пятого курса, а телескопа в глаза не увидать.
Академик был согласен со мной.
Всё казалось просто, если бы не… Обсерватория находилась в горах, в пограничной зоне. Необходим был пропуск в эту местность. Оформлялся он в милиции, месяцами, а нам надо было успеть до начала дипломной практики.
И тут я вспомнил про свой пистолет, замурованный в стене. Точнее – про его происхождение. И пошёл к Альме. Папа её, главный эксперт-криминалист республики поднял трубку телефона и просто попросил, чтобы… без бюрократии, для знакомых, и через три дня счастливые обладатели пропуска высадились в Абастумани.
Маленький городок был ничем не примечателен, а туберкулёзный санаторий нас не то что не интересовал, а даже слегка пугал. Старенький автобус с дверью на рычаге курсировал между обсерваторией и автостанцией один раз в час. Только какой обсерваторией? Дорога делала полный разворот у подножия высокой лесистой горы.
– Строго выполняйте все инструкции в канатке! Она чуть дальше, в чаще, – напутствовал нас водитель и уехал.
Заинтригованные и настороженные мы зашли в лес. Действительно, за деревьями виднелся бетонный бункер, от которого мачты и канаты уводили вверх горы. Но ни души не было! Канатка была рассчитана на самоуправление, а кабинка сделана из жести. Инструкции – лаконичные до дрожи в поджилках:
1. Пятый человек в кабинке вызовет изгиб пола.
2. Встаньте так, чтобы центр тяжести пришёлся на середину кабинки.
3. Вызов кабинки – зелёная кнопка на платформе.
4. Пуск – зелёная кнопка в кабинке, тревога – красная кнопка в кабинке.
– Может пора нажать на красную? – предложил Денис.
Но мы поехали. Эти инструкции составили физики для физиков. А физики, как известно, шутят… с обеих сторон, хотя подъём был не для слабонервных: канаты скрипели, визжали, кабинка накренялась при проходе мачты, словно готовясь застрять на верхотуре и вдруг со свистом срывалась вниз, как в американских горках. Пол дребезжал и прогибался…
Зато красота вокруг была неописуемая. Мы плыли на высоте сорока метров над гигантскими корабельными соснами, в ветвях которых резвились, преследуя нашу кабинку рыжие абастуманские белки.
Выход на верхней станции канатки открывался в парк обсерватории. У дверей станции предусмотрительно стояла зелёная садовая скамейка. Мы тут же на неё плюхнулись, ожидая вторую партию.
Жильё уже ждало нас. Это была квартира в гостинице обсерватории: четыре спальни, гостиная, кухня, две душевые, два туалета, прихожая и галерея. Таких проектов я ещё не видал. Но главным фактором было гостеприимство, с которым нас встретили. Каждый гость в удалённой от мира среде ценился на вес золота, а тем более – молодёжь. Мы потчевали хозяев студенческим юмором, песнями, шутками, а они нас – новостями астрономии. Впечатлил документальный фильм из Америки – облёт Луны на “Аполло-11”, который привёз сотрудник после стажировки в США. Поражал его рассказ, что его просто включили в научную разработку системы наведения телескопа. Никаких идеологических преград! Вот это да! А ночью мы заглянули в окуляры телескопов. Такого количества звёзд я никогда не видел, глядя в небо любимого Манглиси или полюбившегося Абастумани.
А потом мы устроили небольшой пир в наших королевских покоях. Поразительно, но семь человек напились одной бутылкой вина. Нет, не упали пьяными или не могли встать с места. Мы просто смеялись без всякого повода, каждому слову. Но нам было радостно и хорошо. Лёгкое кислородное голодание и молодость – это ли не прекрасно!
Вскоре последний учебный семестр закончился и началась практика. Фактически, это был переход в новый мир, от студенческой скамьи в исследовательскую лабораторию. Я отметил это событие бородой, которую ношу по сей день с редкими перерывами, в которые меня никто не узнаёт. Возможно, с бородой меня не узнавали и те, на чьих глазах не происходил её рост.
Каждое утро я ехал в институт физиологии, где в отделе биофизики теперь писал свою дипломную работу (internship). Институт был создан в тридцать пятом году академиком Бериташвили и сейчас носил его имя. Конечно, это был храм науки, бедной, хромающей на обе ноги, советской, но науки. Помимо лабораторий, пропахших химикатами в нём было немало комнат со стеллажами до потолка, заполненными старыми фолиантами; с искорёженным, но тщательно натёртым мастикой паркетом; с лампами под классическими зелёными абажурами на столах с облезлым коленкором. И концентрация умных академических мозгов была на высоте. Чтобы дать почувствовать колорит заведения пришлось бы писать отдельный роман: ввести десятки героев, наделить их характерами, оживить их идеи, шутки, высказывания. К сожалению, труд большинства из них был непроизводительным, ибо важнее было показать научный выход, чем в реальности иметь его. Понимаете? То есть ставились эксперименты, делались выводы, создавались модели и теории функционирования, но кто их поддерживал, кто принимал? Наука топталась на месте, научные открытия приходили из-за рубежа…
Но мы тогда не видели так далеко с нашего шестка. Страна казалась мощной, благодаря ядерному оружию, нескольким громким именам физиков и космическим разработкам конторы Королёва.
Я даже не могу точно припомнить, как именно я попал на диплом в институт физиологии. Наверное, просто обратился к своему учителю молекулярной биологии профессору Ваалишвили, хочу, мол, писать диплом в вашей лаборатории. А ему что? Хочешь – пиши. Лишние руки – не помеха, а обязательств – никаких. Никто из нас тогда не понимал, что искать место практики надо с дальним прицелом работы, а не ради обучения методике эксперимента, проводимого лишь в данной конкретной лаборатории, да и то, три-четыре месяца. На самом деле, отдел биофизики благодаря стараниям Ваалишвили, разросся в нечто большее (де факто, это были три лаборатории – термодинамики, биохимии и радиоизотопов), и основной задачей профессора было превратить отдел в институт, а себя – в академика, с чем он успешно справлялся. Всё остальное было отдано на усмотрение трёх завлабов. В принципе, модель была хороша, если бы всех связывала общая идея или направление большого исследователя. Увы, где его было взять? Каждый из завлабов старался как мог, но… в собственном продвижении (накапливал статьи, диссертации, научные общества). Что было принято – поставить серию экспериментов; всякие с виду нестандартные результаты откинуть как ошибочные; на оставшихся построить симпатичную кривую и всё это объяснять серией гипотез. Коллеги могли рукоплескать тебе на докладах и конференциях, но воспроизводимости, самой главной черты научного открытия, не наблюдалось. Каждая группа, каждая лаборатория предпочитала не разоблачать соседей, а множить свои туманные наблюдения и гипотезы.
В результате советская наука топтались на месте, а в переводных книжках всё было чётко и понятно.
Бытовал такой анекдот. В детском садике воспитательница проводит идеологическую работу:
– В Америке детей обижают, невкусно кормят, игрушки отнимают, а в Советском Союзе деток любят, конфетами угощают, игрушки дарят.
Дети заплакали:
– Хотим в Советский Союз!
Вспомнил я его потому, что нам всем очень туда хотелось. В Советский Союз! На сборах я не понимал, кому нужны искусственные трудности? Создай солдатам человеческие условия – ответят вдвойне! А в научно- исследовательском институте я совершенно перестал понимать, кому нужен этот вид усилий? Пыхтим, как паровоз, и как будто едем!
Вначале я был просто “добавочными руками” в лаборатории, выполняя то одно, то другое, учась различным методикам экспериментов. Но потом я уже стал беспокоиться, что не успею набрать достаточно наблюдений для собственной дипломной работы. Под моим давлением, наконец, была составлена приблизительная тема: влияние ионов (которые найдутся в лаборатории и дадут не дикие результаты) на активность (если получится её измерить) фермента (который удастся раздобыть или выделить).
Звучала она так “Влияние одно- и двухвалентных ионов K+, Na+ и Ca++ на активность фермента ДНК-зависимой-РНК-полимеразы С из животной ткани.”
Не хочу углубляться в научные основы, но выполненная реально, подобная работа могла быть диссертацией, если не открытием. Но это было всё понарошку. Кислотность среды (pH), концентрация добавленных ионов, их вид, тип фермента и кучи других параметров так значительно влияли на процессы, что ни о каком серьёзном результате дело не шло. В лучшем случае: “Да, ну и что?”
Но так жили десятки людей в лаборатории, сотни – в институте, тысячи – в городе и сотни тысяч – в СССР. И это – самых образованных, академических научных сотрудников. Цвет и гордость страны Советов.
И я с радостью молодого сеттера приветственно вилял им хвостом.
В лаборатории случалось немало смешных историй, начиная от простых розыгрышей, типа плеснуть под дверь жидкого азота и слушать реакцию на “пожар” или запустить чьё-то пальто в центрифуге под конец рабочего дня, или подкинуть лишних болтов в кучку деталей любителю разобрать и собрать свой мопед. Но бывали и более впечатляющие.
Однажды рабочие-штукатуры прицепились к научным сотрудникам:
– У вас в лабораториях должен быть спирт, пахнет сильно, а все отказываются угостить. В чём дело?
Хохмач Рамаз решил разыграть рабочих, а заодно и подшутить над шефом:
– Спирт распределяет сторож. Он очень строгий, но с красным носом, может, сам перехватывает. Поговорите с ним. Он вас лучше поймёт, как пролетарий, но вряд ли… Он обижен судьбой: отец-профессор лишил его наследства за пьянство, а он страдает и до сих пор себя за учёного выдаёт – и указал на заведующего, который в институте ходил в линялом синем халате и берете. Но в целом, он – добрый малый, и, если уговорите – нальёт.
Работяги обрадовались, подошли к профессору Ваалишвили и говорят:
– Слышь, мужик, мы всё про тебя узнали, налей спирту!
– Что вы такое говорите? – возмутился без пяти минут академик, – я профессор!
– Не серчай. Мы тебя понимаем, это в голове ты – профессор, а на деле – сторож. Но и от сторожа польза бывает. Давай, вынеси немного.
– Вы кто такие? Пьяницы? – рассвирепел зав. Отделом биофизики.
– Мы – мастеровые, штукатурщики, обращаемся к тебе как к другу, а ты строишь из себя чёрт-те кого. Посмотри на свой красный нос и линялый халат!
Тут до Ваалишвили дошло, что он пал жертвой розыгрыша. Он всё же учёный был.
– Не даю, потому что вы – свои ребята. Это же не простой спирт, а радиоактивный! Когда только рядом стоишь – нос краснеет, халат линяет, а если выпить – импотенция наступит. Один сотрудник просил-просил, а потом стащил немного. Спросите его – что с ним стало?!
Рабочие вернулись в лабораторию и говорят Рамазу:
– Ты брал спирт у сторожа? Пил его?
– Было дело, – насторожился Рамаз. – А что?
– Что ж ты нам не сказал, что этот спирт радиоактивный, и у тебя от него импотенция наступила! Раз тебе всё равно, другим, думаешь, тоже?!
Все грохнули со смеху и потом дразнили Рамаза “импо”, пока новая ситуация не создала новую кличку – “бластер”.
Однажды Рамаз сидел с паяльником и собирал из светодиодов и интегральных схем космическое ружьё для сынишки. Неожиданно в лабораторию вошёл профессор Ваалишвили и засёк мигание огней, завывание акустических схем и напряжённое выражение лица сотрудника.
– Над чем задумался?
– Над бластером, – пошёл ва-банк Рамаз, пойманный с поличным.
– Сам вижу, что над бластером, – решил не ударить в грязь лицом профессор. – Я имел ввиду – проблемы с деталями есть?
В лаборатории работала сотрудница, Катя Бут. Во всех ведомостях она расписывалась ЕБут. Бухгалтер института, тётка завлаба Геры Степанова, посоветовала племяннику сказать Кате, чтобы та хотя бы точкой отделяла инициал от фамилии. Гера резонно возразил:
– Она единственная из всех, кто может выразить хоть какой-то протест нищенской зарплате научных работников.
Но в институте случались и более серьёзные, хоть и комичные случаи.
Однажды сотрудник института, Тамаз, кандидат наук, завлаб, по совместительству – секретарь академии наук, культурный человек из интеллигентной семьи, повёл сынишку в парк угостить в открытом летнем ресторане мороженным. Жулик-буфетчик обвесил ребёнка более, чем вдвое (вместо двести грамм дал восемьдесят). Тамаз очень рассердился, что обидели его сына. Он поднял крик, но буфетчик и не думал извиняться:
– Ну, зачем кричать? Большое дело! Ребёнок всё съел, ты и не заметил.
Эта ложь и невежливое обращение на “ты” ещё больше разозлило Тамаза. Он решил проучить жуликов.
– Это ты не понял, кого обворовал! – и Тамаз вытащил из внутреннего кармана пиджака красное, похожее на милицейское, удостоверение академии наук.
Буфетчик изменился в лице:
– Погодите, я сейчас директора позову.
Через минуту появился взволнованный директор.
– Пройдёмте ко мне в кабинет, там прохладнее. Сейчас мы уладим досадное недоразумение.
В кабинете уже был накрыт столик – мороженное, пирожные, правительственный лимонад.
– Уверяю, это – несчастный случай, буфетчик только что отца похоронил…
– И пытается компенсировать расходы! – гневно произнёс Тамаз.
– Ни в коем случае! Он просто невнимателен от горя. А чтобы позабыть несчастный случай, прошу вас, примите… – и он протянул Тамазу конверт.
– Что это? – спросил Тамаз, открыл конверт, и увидел двести рублей. – Вы мне это предлагаете, чтобы замять дело?! Не выйдет! В пять часов я вернусь и проведу у вас ревизию.
Не иначе, как у Тамаза было временное нарушение мышления, ну, во всяком случае, его ясности. Он, действительно, решил принести какой-то бланк ревизии из академии наук и сильно напугать директора.
Но директор и так был уже сильно напуган. Он позвонил в МВД, ревизорам, среди которых у него были знакомые, и пожаловался:
– Кого это вы к нам прислали? Зверь какой-то, – и он вкратце описал ситуацию и ревизора.
– У нас такой не работает. Это – афера, – сказали директору. – Накрой столик на двоих к четырём часам и приготовь конверт с деньгами. Положи тысячу, и все номера купюр запиши на отдельном листке.
В пять часов в кабинет директора явился Тамаз. Через пять минут туда же вошли два отобедавших инспектора и арестовали научного сотрудника. В кармане пиджака у него лежал конверт с директорскими банкнотами.
В отделении милиции Тамаза обвинили в вымогательстве денег. Как он ни бился, пытаясь объяснить свои действия желанием наказать жуликов, ничего не помогало. Слишком серьёзную улику извлекли из кармана его пиджака. В милиции не верили, что Тамаз – научный сотрудник и к тому же секретарь академии наук. До понедельника, а это были выходные, Тамаза продержали в камере, а потом, когда институт физиологии и академия наук подтвердила его личность, отпустили на поруки. Но закрыть дело стоило Тамазу много нервов и средств. Кроме того, многие сомневались: “А так ли уж незаметно директор ресторана засунул ему в карман конверт с деньгами…”
Да, жара порой плавит не только мороженное…
Дни моей дипломной практики летели всё быстрее. Уже все серии экспериментов были проведены, все графики – построены и кривые объяснены научно и профессионально: активные центры меняют конформацию белка в присутствии ионов, отчего, в свою очередь меняется активность фермента, включающего меченные изотопом нуклеотиды в РНК. Надеюсь, вы поняли.
В мае дипломная работа была напечатана и переплетена – с виду не хуже диссертации. Оставалось лишь пройти защиту диплома и распределение. Оно состоялось в начале лета, в нашей любимой большой физической аудитории с её амфитеатром, высоченными лепными окнами, выходящими в университетский сад, гигантскими портретами Ньютона и Эйнштейна и двигающимися грифельными досками. На защите присутствовал весь учёный совет физфака и множество научных руководителей по биофизике, которые в случае неприятностей могли поддержать своих питомцев. Те, кто писал дипломы в Москве и других центрах, имели поддержу своих друзей, но, обычно, этого не требовалось, так обоснованно звучали их доклады. Ведь никто, никакой лауреат Нобелевской премии, не мог определить с точностью по докладу, верен или нет эксперимент. Большинство членов учёного совета, вообще, лыка не вязали в молекулярной биологии и тихонько помалкивали.
Но казус всё же произошёл. Одному профессору надоело дремать, и он, мало что улавливая в рассказе, внимательно оглядел графики, которые развесил на доске дипломник. И не понял, какие величины измерялись в экспериментах. Например, если докладчик рассказывает о возрастании благосостояния семей, то можно ожидать на оси ординат не просто букву Д, но и объяснение в скобке (доход) и единицу измерения (рубли или доллары), а на оси абсцисс – время в годах. Ни объяснений, ни единиц измерения он не нашёл, решил этим поинтересоваться и задал вопрос. Защищался биофизик из нашей группы, Михо, который писал диплом в Москве. Сам он был неглупым парнем (глупые у нас, вообще, не училось), хоть больше интересовался спортом, чем наукой. Он несколько лет играл в дубле республиканской футбольной команды, но в основной состав так и не попал, и вернулся насовсем в научную среду. На переменах Михо всегда предлагал сыграть в какие-нибудь спортивные игры, в которых имел преимущество благодаря быстроте своей реакции. Особенно часто он играл в очко на пальцах, знаете, когда на счёт “Три!” двое игроков разжимают кулаки и открывают сколько-то пальцев. Набирают баллы (до 21) как в игре “Очко” (black Jack). Михо так часто выигрывал, что мы звали его “мальчик с 21 пальчик”.
Каково же было наше удивление, когда Михо, вместо разумного ответа, заявил:
– График строит сам прибор. Что надо, то он и откладывает на осях.
Профессор физики от такого ответа немедленно возбудился:
– Вы хотите сказать, что после пяти лет обучения на физическом факультете не знаете, что отложено на осях графиков, которые сами строили?
– Нет, – сказал Михо, – я, конечно, знаю. Это параметр фермента, но графики в Москве вручную никто не строит, поэтому прибор сам всё определяет и сам чертит график.
– Выходит диплом писали не вы, а прибор? Пусть тогда он и защищает!
Дело стало принимать плохой оборот. Наш заведующий кафедры, Ваалишвили, решил поспешить на помощь.
– Студент просто растерялся, он очень стеснительный…
Тут он погрозил кулаком Михо, который хотел было протестовать. Как, мол, это он, спортсмен и футболист, растерялся?! Но Ваалишвили был непреклонен.
– Не каждый день студенту, даже выпускнику, приходится выступать перед научной элитой города. Он, конечно знает, что измерял активность фермента…
– Пусть хотя бы скажет, в каких единицах измерял эту активность. Хоть биофизика не наша специальность, но как физики мы все поймём!
– В процентах! – вставил свои пять копеек Михо.
– Заткнись! – прошептал ему Ваалишвили. – А то тебя срежут! – и громко, для всего зала, – Вот видите, он опять волнуется. В процентах часто выражают относительную активность опытного образца по сравнению с активностью стандартной метки. Но обе они ни что иное, как радиоактивность препаратов, меченных изотопом и измеренная в микрокюри.
– Благодарю вас, коллега, – сказал профессор, – я просто ожидал услышать ответ от дипломника, а не от его уважаемого учителя.
– Поверьте коллега, студент всё это хорошо знает, но очень волнуется…
Защита была спасена.
Больше ни у кого сложностей с докладами не возникло. Оставалась одна процедура – государственное распределение, и мы становились дипломированными специалистами.
Сама процедура распределения была очень простой. Выпускник в кабинете декана в присутствии членов комиссии по распределению знакомился с рукописным журналом, где перечислялись все места трудоустройства выпускников: позиции в научно-исследовательских институтах, лабораториях, заводах, школах, кафедрах и т. п. Разумеется, пересмотреть весь список не позволялось, да и времени не было. Многие места были подготовлены для избранных студентов и другим студентам даже не показывались. Какие-то места показывались тем или другим – на выбор, а многим студентам оставались малоинтересные, малопрестижные и места в районах. Этот калейдоскоп тем не менее как-то работал. Потому что все, даже функционеры и взяточники были живыми людьми и кроме необходимых действий совершали и желаемые. Я уверен, что представитель института физиологии Гера Степанов, не только принёс и вписал в журнал распределения два-три места, предназначенных для детей уважаемых людей, но и проконсультировал знакомых вроде меня студентов, что им делать.
– Ник, – сказал Гера, – я читал список, есть несколько запросов на педагогов физики в школу, я знаю, что ты любишь преподавать. Кроме того, из незанятых мест есть запрос на биофизика из министерства здравоохранения. Никто не знает, что это такое, то есть, это – не персональное место. Хочешь – рискни. По крайней мере, место в городе. А там дальше уж сам искать будешь.
Что мне оставалось? В приглянувшейся мне лаборатории биофизики института физиологии мест для выпускников русского сектора не было. И вовсе не из-за плохого к нам отношения. Просто при дефиците мест принимались новички исключительно из клана. Вот когда мы вспомнили вздохи и жесты астронома, академика Харадзе, который хорошо понимал, что с нами будет. Но и мы понимали, что работать с данными телескопа Хаббла в США пошлют тоже не нас.
Надо было идти на риск и соглашаться на место в Минздраве. Школа меня и на дому устраивала. Ну, так я и сделал.
Через пять минут, в последний раз в жизни я вышел из кабинета декана с направлением в министерство здравоохранения по их требованию. Все поздравляли меня. Теперь я стал настоящим выпускником. Многие думали, что я сам устроил себе желанное место и уважали меня за это. Эли помог дядя, который много лет работал в министерстве здравоохранения в отделе кадров и организовал ему место лаборанта в институте Психиатрии. Денис и Антон устроились в лабораторию радиологии почвы. Я тоже ходил туда на интервью, но место показалось мне подозрительным. Начальник сказал:
– У нас – секретность. За два года любую чушь подаёшь на диссертацию, и успешно защищаешься.
Этого мне хотелось меньше всего. Ребятам, я уверен, тоже, но надо же было где-то в городе устроиться и получить зарплату. Абраша пошёл в институт сельского хозяйства писать диссертацию чёрт знает о чём. А я рискнул прийти на распределение без своего места, словно надеялся на бога. И, хоть я в него и не верил, он меня не оставил без места.
Такова была сиротская судьба наших пятерых отличников-биофизиков.
С работой можно было не спешить, приступить требовалось в сентябре. Времени было полно, и я мог подумать о своём первом взрослом отпуске. Я было начал искать компаньонов для поездки, но тут, как всегда, жизнь скорректировала свой сценарий.
Майка, моя сестра не высушила волосы (было тепло, если не жарко), но бабушка, хранительница порядка и устоев, припустила за ней с косынкой в руках. В семье бытовала история, как кто-то не вытер голову после бани и в результате скончался от менингита. Разумеется, никто кроме самой бабушки в это не верил, но её твёрдой веры было достаточно, чтобы запустить цепь событий. Итак, бабушка выскочила за Майкой и, благополучно преодолев крутую винтовую лестницу, помчалась вдогонку. И если бы догнала, то получилась бы банальная история, которую я вряд ли бы запомнил. Но увы, бабушка Софа была большой и грузной, с артритом в ногах и спине, и несло её, словно крейсер, страстное желание спасти любимую внучку от менингита. Это ли не подвиг!
Майка услышала крики прохожих и обернулась. Бабушка лежала на тротуаре лицом вниз и громко стонала. Её подняли, отнесли домой, уложили в постель и вызвали маму с работы. Словом, когда я вернулся, бабушка превратилась из домохранительницы в лежачую пациентку с компрессами на лбу, под которыми пряталась огромная шишка. Это было так странно… Бабушка, которая натирала суконками наши полы до состояния бальных залов её любимой Лодзи, ежедневно сметала видимую и невидимую пыль с мебели и застилала постели, стала беспомощной, как ребёнок. Раньше она с явным удовольствием слушала мои рассказы-лекции об устройстве Вселенной. А сейчас интерес, да что там к звёздам и галактикам – к жизни – у неё пропал. Нет, никакого кровотечения и паралича не было; бабушка как-то сразу сдала, рухнула, как взорванный бастион. С каждым днём ей становилось всё хуже, началась пневмония, и Софу пришлось госпитализировать. Но в больнице ей сделалось ещё хуже, она отказывалась есть, худела на глазах. Похоже, что у неё всё болело, и врачи относились к этому с недоверием. Мама проводила с бабушкой много времени, на работе её отпускали с утра, а я, обычно, приезжал во второй половине дня. Но однажды, заплаканная мама вернулась раньше обычного. Бабушки не стало. Вскрытие показало множественные метастазы…
Хоронили мы бабушку по каким-то среднегородским обычаям. Часть из них смахивали на еврейские, часть – на христианские. Тело забальзамировали, и панихиды шли по крайней мере два дня, чтобы люди успели выкроить время и зайти – выразить соболезнование. Одна комната превратилась в зал для поминовения, где стоял гроб и стулья, а в другой, маленькой, могли спать двое.
Мама думала, что я пойду ночевать к тётке или друзьям, но я выразил желание раскрыть свою раскладушку и спать рядом с гробом.
– Бабушку я любил, мёртвых – не боюсь, – успокоил я маму.
Так и сделали: потушили свет и легли спать. Но мне не спалось. Я думал о нелёгкой жизни моей дорогой бабушки, её постоянных заботах о нас и о светлой любви. “Maine lichtiker (мои ненаглядные)!” – говорила бабушка, глядя на нас, и её блефаритные глаза, подведённые зелёнкой, светились счастьем.
От этих воспоминаний и безвозвратности утраты мне стало невыносимо тяжко, и неожиданно для себя я разразился плачем. Я выл и стонал как истеричная женщина, уткнувшись лицом в подушку, чтобы не выдать своей слабости и не разбудить родных. Но бурная реакция стихла, словно прощальный крик вдогонку поезду, уходящему от тебя всё дальше и выше.
И я остался один…