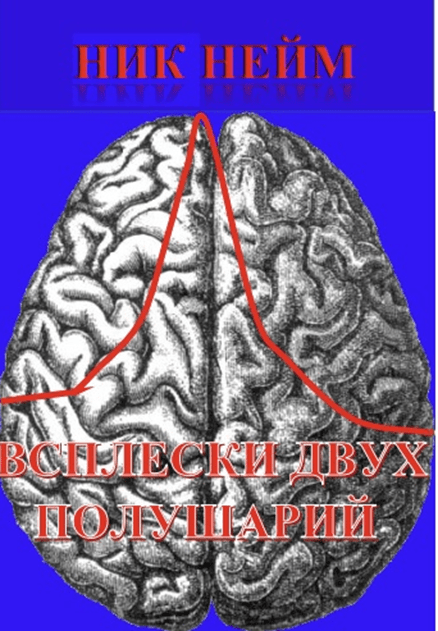
Часть Первая – Там (Восточное Полушарие)
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ – НИИТО. НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Колёса поезда убаюкивающе постукивали на стыках рельсов, унося нас всё ближе к Чёрному морю. Эта песня железной дороги, пропахшей мазутом, свежим ветром бескрайних просторов и пьянящей молодости вела нас на поиски приключений, открытий и удачи.
Шесть человек сидело в купе поезда. Четверо нас, не сумевших достать целое купе на всю компанию и взамен получивших по две полки в двух соседних купе, и двое чужих – «старик со старухой», какими они казались нам, двадцати – двадцатипятилетним. Обменять места было невозможно: только у Ланы было нижнее место, а у Зои, Этери и меня – верхние, поэтому при обмене кто-то из пассажиров терял бы нижнюю полку – дураков не было! А идея «доплатить» в те застойные годы никому из нас в голову не пришла. Весь вечер «старик» ел моих спутниц глазами так, что пробудил давно уснувшую ревность «старухи».
– Лезь на свою полку, – скомандовала она, – и укладывайся на боковую!
И тогда сердобольная Лана подарила «старику» нижнее место, а сама устроилась на верхней полке, чтобы было удобнее болтать со мной. Увы, не оценив её доброго поступка, попутчик начал читать Лане мораль, как нехорошо с её стороны болтать с молодым человеком и не давать спать другому, годящемуся ей в отцы.
– Как же, – сказала Лана, припомнив нескромные взгляды, – окажись мы вдвоём в купе, вы бы сразу мне объяснили, какая незначительна разница в возрасте между нами.
– Девчонка, ты ещё возбуждать меня вздумала! – закипел он.
– Наоборот, успокаивать! – сказала Лана. – Сейчас, дядя, ты замолчишь до утра, – и при этих словах она скинула с себя красную шёлковую кофточку. Что там «дядя»! Я сам онемел. Небольшая, но оформленная прекрасная девичья грудь на расстоянии вытянутой руки произвела на меня сильное впечатление. «Старика» с нижней полки это просто парализовало. Как и предсказала Лана, он замолчал до утра, и только иногда ритмично пыхтел из-под простыни…
Четвёрка наша сложилась случайно. Я собирался в Сухуми повидать авторов статьи о влиянии электрических и магнитных полей на рост костей и мягких тканей. В те годы тема эта была горячей. Тон задавали в США, где на деньги военно-морского министерства исследователи стимулировали искусственно нанесённые переломы кроликам и баранам, а потом, забив животных, определяли, что костная мозоль образовалась быстрее и была прочнее на излом. Я не встречал ни одного, утомлённого поиском мяса советского исследователя, который, после экспериментов на тощих облезлых вивариумных собаках имени академика Павлова, не был бы уверен, что в Америке шашлык из забитых баранов ест вся их лаборатория, институт и даже военно-морское министерство. При этом бытовало мнение, что наука находится на грани большого открытия. Ещё чуть-чуть, мы применим правильное поле, электрод, магнит, силу тока и т. п, и кость собаки, кролика, барана и – фанфары! – человека, начнёт расти со скоростью, по меньшей мере, оторванного хвоста ящерицы. Я – молодой выпускник университета – мечтал, как выйду с докладом на кафедру, попрошу слабонервных отвернуться, и на глазах изумлённой публики отсеку себе тесаком заранее обезболенный палец. А потом на глазах всё той же потрясённой аудитории отращу его заново. Ох, как мне нравилось представлять произведённый фурор!
Однако мечты мечтами, а нужны были хорошие эксперименты. То в одном, то в другом журнале появлялись статьи о каких-то якобы удачных, но туманных попытках стимуляции роста костей, и заинтересованные исследователи пытались разведать, что это – действительно, правильный подход или «липовая» статья, призванная впоследствии подтвердить причастность к открытию. Мне уже доводилось ездить в Киев, где из двух или трёх учреждений вышли подобные работы. Некоторые из них засекретили, из-за отношения к «космосу и стимуляции космонавтов», но многие предполагали – «симуляции», чтобы скрыть безделье и шарлатанство. С двумя научными сотрудниками и одним космонавтом мы обедали вместе в ресторане на Крещатике. Космонавт пил из фляги настойку бузины на спирту, утверждая, что это – секретное лекарство, которое снимает эффект космической радиации. Рассказы подвыпивших исследователей звучали наподобие рассказов не более трезвых рыболовов и изобиловали многими короткими словечками полового значения. На выходе из ресторана ко мне приблизился какой-то мужчина и шепнул:
– Не болтай, о чём здесь слышал, а то попадёшь в самое высокое украинское здание… ну, из которого Сибирь увидеть можно!
Я ещё в школьные годы дважды бывал в Киеве (во время туристической поездке по городам-героям и на Всесоюзной Математической Олимпиаде) и уже тогда познакомился с этим популярным оборотом.
Тем не менее, вернувшись домой, я поделился услышанным с самим академиком А. В уме ему не откажешь, как и в деловых качествах. Он обдумал сказанное и сделал мне предложение:
– Вы человек холостой, – сказал академик. – Поживёте в Киеве. Мы отправим вас… стажироваться. Как только появится серьёзный результат – немедленно сообщите. В ближайшем номере республиканского журнала безотлагательно выйдет статья: моя, замминистра, ну, и кого надо. Вас включим, разумеется! Словом, Государственная премия – у нас в кармане!
Язык мой – враг мой! Я не удержался и спросил:
– А платить, как разведчику будете?
Академик нисколько не обиделся, либо как боксёр-профессионал прекрасно держал удары. Он рассмеялся и заметил:
– Платить будем карбованцами… когда хохлы отделятся!
Так я не поехал в Киев. А сейчас направлялся в Сухуми. Тоже не в командировку, а просто был отпущен с работы на несколько дней в канун праздников. И за это спасибо! Вроде как оплачиваемый отпуск без всяких отчётов и документов. Но ехать в компании было бы веселее, и я начал активно подыскивать компаньонов. Неисповедимыми путями я нашёл трёх попутчиц – всех трёх с физфака, который я закончил. В студенческие годы там ходила поговорка: «На филфаке, куда не плюнь – хорошенькая девушка, а на физфаке, наоборот, что ни девушка – то плюнь»! Ничего подобного! Все три мои спутницы были весьма хороши: русская красавица с высоким лбом и чуть вздёрнутым носиком – блондинка Светлана, мы звали её Ланой; армянская красавица – черноволосая Зоя, с глазами пугливой лани, и грузинская красавица – Этери с персиковой кожей, густыми каштановыми кудрями и огромными ресницами. Зоя и Этери ехали навестить родственников на праздники, а Лана – повидать двух однокурсников. Один из них, Коля, писал дипломную работу в институте академика Лапина, а другой, Вова – в институте физики. Для меня самым существенным, было то, что Вовина семья проживали в Сухуми: я, как раз, собирался остановиться у них.
Вова был очень симпатичен мне. Во-первых, он был остроумен, и мы вместе с ним сочиняли удачные миниатюры к студенческим капустникам. Во-вторых, он был интеллигентен – мне такие нравились. Когда-то я был поражён, узнав, что его отец занимает высокое положение в правительстве Абхазии. В то время мне казалось, что принадлежность «папы» к правительству накладывает негативный отпечаток на членов семьи. Но Вова опровергал это мнение не только своей личной тактичностью, но и поведением всей семьи. Они радушно принимали Вовиных друзей довольно «простого» происхождения, не боялись делать критические замечания в адрес большого правительства, и даже похвалили мою шуточную песню, об изменённых словах гимна («Не будем, ребята, о гимне тужить, ведь новые гимны придумает жизнь, давайте-ка лучше построим скорей коммунизм!»)
Вова обрадовался, узнав, что на праздники я собираюсь навестить его:
– Предки как раз уезжают, мы остаёмся вдвоём с младшим братом и можем легко разместить нескольких человек, не только тебя одного!
Его слова оказались пророческими: отряд из трёх амазонок и одного младшего научного сотрудника прямо с вокзала десантировался в огромную правительственную квартиру в центре курортного города. Хозяин Вова с братом растеряно, но радушно предоставили нам свою комнату, комнату для гостей и столовую-гостиную с огромным диваном, а сами собрались ретироваться в спальню родителей, но это был розыгрыш. Размещать надо было только меня: Зоя и Этери поселились у родственников, а Лана – у Коли. Столовались, однако, все у Вовы. Эти обеды достойны отдельного рассказа.
Во-первых, мы пожили «правительственной» жизнью. Утром Вова звонил в столовую ЦК и говорил волшебные слова: «Обед на семерых в квартиру такого-то!» В четыре часа раздавался звонок по телефону: «Обед доставлен, можно заносить»? Через пару минут рослый порученец, а с виду – цирковой атлет-гиревик, заносил в квартиру в вытянутых руках цилиндрические бидоны, похожие на бачки мороженного, с первым и вторым. За ним семенил водитель с двумя цилиндрами поменьше – закуской и десертом. Всё это они относили на кухню и деликатно удалялись.
Во-вторых, девочки играли в «светскую жизнь». Да, вы не ослышались, не в советскую, а, именно, в светскую. Они накрывали стол, как будто к приёму английской королевы. Из серванта и горки извлекался саксонский фарфор, богемский хрусталь и бог знает какой антиквариат. Всё это согласно царскому этикету размещалось на столе, а кобальтовый с золотом японский чайный сервиз временно помещался на отдельный столик для подачи десерта. Столовые серебряные приборы Кристофля, Мейсенские графины с напитками и крахмальные салфетки с вензелями дополняли картину. Не думаю, что подобная «национализация» пришлась бы по вкусу родителям Вовы. Но в их отсутствии хозяйничала «народная вольница». Вова только просил:
– Давайте и бумажные салфетки положим, на всякий случай!
В условиях коммунистического изобилия раскрывался истинный характер человека: девушки ухаживали за четырьмя юношами с материнской заботой! Надо заметить, что к чести собравшихся, никто ничего не разбил, не пролил и даже не испачкал скатерть за три-четыре дня продолжавшихся Лукулловых пиров. Мы потом с Вовой юмористический рассказ написали – «Большой жор» об этой вселенской обжираловке.
Моя встреча с авторами статьи произвела печальное, но отчасти ожидаемое впечатление. Они ничего не смыслили в электростимуляции, никаких протоколов не вели, подопытных кроликов съели, и в душе я сомневался, что какие-либо эксперименты были, вообще, поставлены. Тем не менее, будучи людьми симпатичными, «исследователи» приняли меня радушно, поговорили о трудностях последних шестидесяти лет советской жизни и угостили, правда, не домашним, но рагу из кролика (!) под соусом из белого вина. Отказаться от еды, несмотря на мою нелюбовь к белому мясу, было невозможно. Это означало, что я их презираю и не ценю того, что меня признали «своим» и откровенно выложили отношение к советским худосочным кроликам, науке и правительству как к различным ипостасям одного и того же дерьма. Поэтому совместное поедание кролика с абхазами носило скорее ритуальный характер, типа выкуривания трубки мира с ирокезами.
В четыре часа я уже принимал участие в другом пиршестве – домашнем, наслаждаясь отличной компанией единомышленников и славной «цекаковской» кухней. Посмеявшись над горе-экспериментаторами, ребята предложили мне сходить в Лапинский институт. Это был один из трёх союзных центров, наряду с Рижским и Пущинским, сотрудничавших с Америкой в исследовании рака у приматов. Результатом этого было наличие лапушек-шимпанзе и роскошной американской лабораторной посуды. Институт также держал стада разных обезьян, на которых изучали высшую нервную деятельность, поведение и этологию (врождённое поведение или инстинкты). Часть питомника, подобно зоопарку, демонстрировалась публике и этим приносила дополнительный доход институту. План моего визита был таков: с утра я посещаю питомник, открытый для публики, затем меня подхватывает Коля и знакомит с их лабораторией, а потом отводит к советскому этологу, профессору Анне Степановне, подруге Вовиной мамы, возглавлявшей, в свою очередь, отдел кадров института.
Утро началось с питомника. Отдельные породы обезьян были представлены особями, резвящимися в больших, чистых и хорошо оборудованных клетках. Экскурсовод-мегрел с сильным акцентом, контрастирующим с монотонностью речи, выдавал короткие справки о них:
– Горилла. Живёт Африка. Весит два центнер. Ест банан. Ест вопрос?
– Простите, а это мужчина или женщина? – спросила экскурсантка.
– Сáмец! А эта – орангутанг. Живёт Африка. Ест банан. Весит «палтара» центнер. Ест вопрос?
– Простите, а это мужчина или женщина? – настаивала посетительница.
– Сáмец! А эта – шимпандзе. Живёт Африка. Весит центнер. Ест банан.
– Простите, а это мужчина или женщина? – не успокаивалась любознательная.
– Сáмец! Э-э-э! Мужчина – это у кого дэнги ест! Всё остальное – сáмец!
Самое интересное было наблюдать со специальных смотровых площадок жизнь обезьяньего стада на воле. На огромной территории, имитирующей натуральные условия обитания, носились, ели, играли и занимались сексом десятки животных. Люди с явным удовольствием наблюдали за их действиями, особенно, интимного характера, и усердно их комментировали. Большой самец, видимо, вожак, вальяжно подошёл к обезьяне, подбирающей какую-то снедь с земли, ухватил её за красную попу и ловким движением, как охотник вскинувший ружьё, ввёл длинную, красную морковку в её тело. Зрители засмеялись. Обезьяна, не обращая внимания на «атаку» продолжала кормиться с земли.
– До лампочки ей твоя морковка, – сказал розовощёкий работяга, – как Люське после ночной смены!
Все опять засмеялись. Но вожак упорно продолжал сотрясать обезьяну, и постепенно она стала повизгивать и двигать тазом в ответ.
– Проснулась его Люська! – заметила колхозница, – а куда ей спешить? У них настоящий коммунизм!
– Мама, мама, – сказала девочка лет семи, а у дяди-обезьяны пиписька длиннее, чем у папы! Послышались раскаты смеха. – Но тоньше!
Тут уже все реплики утонули в гомерическом хохоте, которым и закончилась экскурсия.
Закончилась для туристов, а для меня только началась. Коля уже поджидал меня, чтобы провести внутрь. Лаборатория поражала воображение никогда не бывавшего за границей человека обилием красивого и удобного оборудования, а сотрудники её – своим привычным отношением к «роскоши». В мусорных вёдрах – элегантных разноцветных контейнерах – валялись предметы зависти любого неравнодушного к канцелярским товарам человека. Кофе и молоко рекой текли из невиданного аппарата в подставляемые большие фаянсовые кружки с красивыми фармацевтическими эмблемами. Появлялось чувство, что ты постепенно превращаешься из обезьяны в человека, а может и наоборот.
– Уходить не хочется! В таких условиях можно трудиться, пока силы не иссякнут.
– Так и задумано. Рабочий день не лимитирован, эксперименты идут круглые сутки, приходишь и уходишь, когда тебе удобно. А счётчик показывает, что каждый, включая начальство, работает не по восемь, а по двенадцать – шестнадцать часов в сутки.
– А нельзя попросить политического убежища в вашей лаборатории?
– Можно, – сказал Коля, – но только в качестве обезьяны. Все человеческие должности зарезервированы до конца столетия.
Я повздыхал и отправился знакомиться с Анной Степановной. Отдел высшей нервной деятельности и поведения приматов напоминал обычные хорошие комнаты академических институтов и библиотек. Здесь много читали, писали и думали. Где-то на нижних этажах размещались техники и электронщики в лабораториях, создающие необходимое оборудование для задуманных экспериментов. А в кабинете заведующей и прилегающих комнатах, был мозговой центр, где придумывалось, как правильнее задать природе вопрос, чтобы получить на него осмысленный ответ.
– Вы не представляете себе, молодой человек, сказала Анна Степановна, сколько дилетантов желает сделать научное открытие. Многие шлют свои рукописи в наш институт, и, по традиции, их передают нам в отдел. Дирекция относит их «труды» к «поведению приматов», а анализ этих работ – к «высшей нервной деятельности». Должна сказать, что большинство авторов – психически больные люди, но полагается прочесть рукопись и ответить на неё. Вот, взгляните, – и она протянула мне фолиант страниц на пятьсот, в коленкоровом переплёте.
Текст оставлял гнетущее впечатление. Автор пытался внушить, что можно получить пользу из ничего и опровергал закон сохранения энергии. Бред чувствовался в бессвязности положений и выводов из них.
– Узнали? – спросила Анна Степановна. – В огороде …
– …бузина, а в Киеве дядька! – подхватил я, вспомнив по ассоциации свою недавнюю поездку в Киев, где космонавт «стимулировался» настойкой бузины на спирту, а «дядька» сулил мне «огород», в котором сажают не только рассаду…
– Эта бессвязность – главный признак душевной болезни корреспондента. Ну, давайте я вам лучше о наших трудах расскажу. Вова о вас так хорошо отзывался, что хочется показать молодому учёному, как «высшая» деятельность, может и нервная, корректирует научные статьи совершенно здоровых, а не душевнобольных авторов.
И пожилая женщина поведала мне историю, достойную обнародования в свободной стране. Отдел изучал возникновение инфарктов, естественно, на модели обезьян. То, что стресс приводит к инфаркту, было очевидно, но довести обезьян до инфаркта не получалось, какими только способами их не мучили, или пугали. То ли им ума не хватало понять, как они несчастны, то ли природной жизнерадостности у них было больше, чем у человека. И тогда зародилась идея одного эксперимента. В двух соседних клетках поселили пару обезьян и одинокого самца. Пару содержали в чистоте и тепле, кормили спелыми фруктами. Счастливые обезьяны резвилась и занималась сексом в своё удовольствие. Всё это – на глазах одинокого самца. Но если бы только это! Его били палкой и током, обливали холодной водой, кормили объедками из соседней клетки и наказывали за мастурбацию. Всё это – на глазах избранной обезьяним богом пары. Животные иногда пугались, жалобно кричали, но чаще отворачивались и находили успокоение в еде или любви и никогда не рычали в защиту угнетённого собрата, а тем более, не делились с ним едой. Через месяц подобных издевательств внезапно производился обмен самцов: самец из холеной пары помещался на место одинокого угнетаемого самца и наоборот. И – вуаля! – в течение следующих двадцати четырёх часов, часто ещё до начала экзекуций, у бывшего избранника судьбы наступал инфаркт миокарда!
Выводы из экспериментов были не просто научными, но и несли политическую окраску. Статью из редакции академического журнала переслали в комиссию партийного контроля, откуда пришёл убийственный приказ: «Засекретить результаты эксперимента! В журнал подать исправленный вариант статьи»!
Неунывающие учёные так и сделали, закончив описание эксперимента словами: «В восьмидесяти семи процентах случаев самец терял «человеческое» лицо и «зверски» мастурбировал». Статью всё равно не опубликовали, объясняя наличием в редакции большого числа более актуальных работ, не содержащих «ложных ориентиров для молодого исследователя».
– Ну, что, наш юный гость, возникли у вас ложные ориентиры? – спросила Анна Степановна.
– Наверное, да, – сказал я. – Мне хочется всем рассказать об эксперименте, и не только этом. И я поделился своими впечатлениями о научных экспериментах с умудрённым опытом профессором.
– Что ж, – резюмировала она, – рассказывайте, только полегоньку, а то я, вот, на пенсию сегодня внезапно выхожу…
И с тех пор я рассказываю эту историю всем желающим. И теперь, когда сам стал «профессором», понимаю, что в жизни каждого бывают моменты, когда надо выбрать между инфарктом и мастурбацией…
А вы, что выбираете?