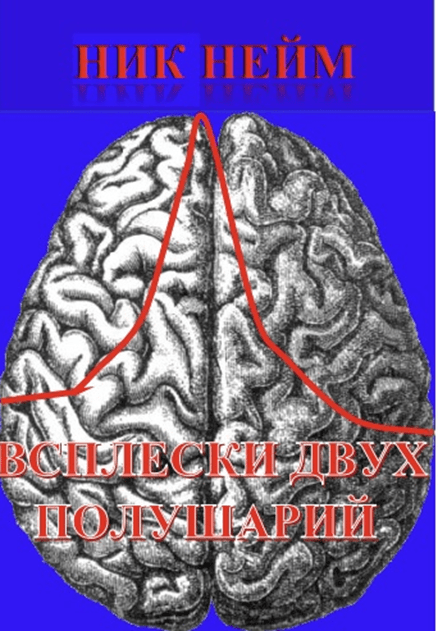
Часть Первая – Там (Восточное Полушарие)
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ – ГПИ. ПИНГВИНЫ
Пингвинами в моём городе называли учеников. Не оголтелую школьную ватагу детворы, галдящую как воробьи и воинственно размахивающую портфелями, а притихшую цепочку частных учеников, смущённо сжимающих подмышками толстые конспекты и как бы невзначай проскальзывающих в дверь к репетитору.
Ну, цепочка – это если вам повезло быть известным учителем…
Не знаю, кто и когда окрестил частных учеников – пингвинами, но термин привился и стал популярным. Я уверен, что его источником послужил вид скромного, сутулящегося от смущения или быстрого роста подростка, прижимающего руки к телу (конспект!) и мелкими шагами, чтобы не наступить товарищу на пятки, но поспешно, (чтобы не мозолить любопытные глаза!) заходящего к учителю домой. От слова пингвины учителей-репетиторов окрестили пингвинаторами. Особо популярных в городе называли знатным пингвинаторами. Не исключаю, что по созвучию с махинаторами. Определённый смысл в этом был. Всё ремесло, несмотря на его древность и вроде бы почётность, в условиях социализма становилось полулегальным. Дело в том, что налог на занятия с частными учениками был 75%. Какой человек в своём уме и по доброй воле стал бы работать, отдавая три четверти заработанного? Как будто невидимая сила пыталась удержать людей во тьме малограмотности, а учителя боролись с ней, подставляя себя под статью закона. И при этом те же самые тёмные и малограмотные люди, воспитанные на идеях социалистической экспроприации, всегда имели возможность оплевать репетиторов, как нелегальных махинаторов.
Итак, укрывание доходов делало бизнес криминальным. Это в определённой степени осознавали и учителя, и родители учеников, а потому и дети. Наверно, это добавляло последним сутулости в виде и скованности в движениях. Но картина репетиторства складывалась из множества различных уровней: поскольку условия обучения в большинстве школ были плохими (большие классы, малоквалифицированные учителя), то детей учли плохо. С другой стороны, в престижных университетах и институтах (колледжах) за поступление брали взятки (ведь обучение было бесплатным!) Поэтому нужна была армия учителей-репетиторов, готовящих подростков к конкурсу. Как всегда, спрос порождал предложение. И репетиторство процветало. Учили все, кто мог. Студенты, школьные учителя, преподаватели ВУЗов и научные работники. Не всегда это было морально. Например, школьному учителю брать деньги с учеников своего класса, или члену приёмной комиссии с поступающих. Но экономика всегда определяет мораль, и члены приёмной комиссии не скрывали, а выставляли своё положение. Выгодно же!
Мои первые платные ученики появились ещё в школе. Я занимался за гроши с соседскими детьми в старшем классе школы, а на первом курсе университета – это было само собой разумеющееся занятие. Все мои товарищи тоже или занимались с учениками, или искали их.
Такие как мы не интересовали охранников закона. Они охотились на знатных пингвнаторов. Финансовый инспектор выслеживал всех учеников, составлял списки и наносил репетитору визит вежливости. Думаете, с целью обложить его законным государственным налогом? Ничего подобного! Самому-то как жить? Поэтому, целью визита было убедить преподавателя, что его ученики и доходы хорошо известны инспектору, и, во избежание штрафа и налога, взять инспектора на содержание в доход от одного ученика в год. Судя по тому, что меня никогда не накрывал фининспектор, я не был знатным пингвинатором. Надеюсь, что просто хорошим учителем. Во всяком случае, я достиг уровня, когда учеников уже не надо было искать, обходя более знатных коллег с праздничными подношениями… Ученики уже самовоспроизводились… Кроме того было известно, что я люблю особые случаи, например, готовить ученика к олимпиадам или в сложный ВУЗ. Это требовало отдельных от группы занятий. Профессионалы не могли себе позволить заниматься с одним учеником взамен группы, даже если умели решать трудные задачи. А я не мог себе отказать в этом удовольствии…
Мои первые ученики, как я уже упоминал, были школьниками пятого-шестого класса, которым надо было помочь по алгебре и геометрии. Для меня это было «плёвое дело». Даже когда я сам был в пятом-шестом классе. Я легко успевал решить на контрольной свои и чужие задачки и накатать шпаргалки всем нуждающимся. К чести моих одноклассников, многие сами хорошо справлялись с контрольным. Я, вспоминая дедушкины рассказы про занятия с сыном наместника Воронцова, папины рассказы о решении задач с любой страницы учеьника, хорошо их понимал. Мне не нужны были черновики для школьных задач. Прочтя условие задачи, я мог сходу продиктовать или набело записать решение задачи. Поэтому ещё в младших классах меня интересовали задачи потруднее. Мне нравилось подойти к задаче так, чтобы решение казалась само собой разумеющеимся. Я даже стал записывать свои «лекции», которые позже превратились в мои конспекты. Ученикам они очень нравились. Там всё выглядело просто и понятно. И было красиво оформлено. Это сказалась моя так и не реализованная мечта о кружке по рисованию. Пару знатных пингвнаторов впоследствии пыталось купить у меня мой конспект, но я был верен копирайту. Вообще-то можно подозревать, что они, подивившись моей упёртости, перекупили конспекты у какого-то из моих учеников или их родителей.
Но всё это было позже, а начинал я с линейных уравнений и задач на проценты. Одним из самых первых моих учеников был пятикласник Вова Жвания. Этого ученика прислала мне моя классная руководительница Вера Арамовна.
– Мальчик из состоятельной семьи, ты будешь доволен, – предупредила она, опуская подробности, которые меня и не интересовали.
Мальчика привела мама – очень молодая и красивая славянка, одетая с иголочки. Она поинтересовалась, как часто надо заниматься и, услышав мой ответ, сказала, что платить будет столько-то (я бы запросил вдвое меньше), а за успехи последует отдельное вознаграждение. Потом она посмотрела на меня как заклинательница змей на интересный экземпляр и выразила надежду, что у нас сложатся сердечные отношения. Я, по молодости лет, не просёк ситуации, кроме той, что в семье у них полный порядок с деньгами.
Вова занимался неровно, но был смышлёным пареньком, и мы подружились. Как-то раз я спросил его, кем бы он хотел стать. Ответ последовал без промедления:
– Замминистра лёгкой и пищевой промышленности.
– Почему? – удивился я законченности формулировки.
– Как папа, – пояснил он.
– Интересная работа?
– Папа говорит, да. Но опасная. Мама считает, что папа сильно сдал и чахнет как кащей.
В чём он сдал я не догадался, а над чем чахнет благодаря Пушкину уловил.
В конце сентября Вовина мама принесла мне конверт с девственными купюрами, повздыхала, что я такой занятый в университете, но, если захочу её увидеть и поговорить о сыне, она всегда найдёт для этого время.
Говорить с мамой мне казалось пустой тратой времени. Я всегда считал, что подобные разговоры ничего ребёнку не дают. Я просто продолжал усиленно заниматься с Вовой. В начале ноября, как раз перед праздниками, раздался стук, и в квартиру вместе с его благоухающей и стильной мамой вплыл сверкающий блёстками и лентами подарочный набор: две бутылки коньяка, две бутылки шампанского и три коробки шоколадных конфет, печенья и восточных сладостей. Разумеется, плюс конверт с моей непомерной зарплатой.
– На праздники мы летим во Францию, так что Вова слегка опоздает на занятия, но на вашей оплате это не отразится, – улыбнулась мне молодая женщина. – Сын часто вас вспоминает и хвалит ваши занятия. А мне завидно. У меня никогда не было частных педагогов. Я бы была очень прилежной ученицей и выполняла бы все пожелания учителя. Особенно такого молодого и талантливого как вы…
Сейчас мне кажется, что каждое слово несло скрытый смысл одиночества и тоски молодой женщины из царства Кащея, но тогда я ничего этого понять не успел. Семья Жвания не вернулась в Тбилиси. Новый, как его называли – “правительственный”, самолёт, ИЛ-62 из Парижа в Москву разбился, подлетая к столице…
Пятиклассница Медея, девочка из традиционной греческой семьи, попала ко мне по рекомендации маминой сотрудницы Ани. Мама девочки была очень худой, высокой женщиной, не лишённой миловидности, увы, подпорченной толстым линзами очков и разрушенными кариесом зубами. Имя Афродита ей не очень-то шло. Был в этом какой-то сарказм, типа называть одноногого Гефестом. Где-то через месяц занятий, мама вернулась с работы с широко раскрытыми от удивления глазами и сообщила мне большую просьбу Ани: сказать Медее на следующем уроке, что я женат, но жена моя на лечении в Москве. Теперь поразился я. Мама объяснила со слов Ани, то есть Афродиты, что маленькая Медея влюбилась в своего молодого учителя и потребовала от родителей заслать к нему сватов. Разница в возрасте не смущала ни дочку, ни родителей, а Медея прямо заявила, что выдержит без мужа лет пять (до окончания школы) – Пенелопа дольше ждала! Чтобы отвлечь дочку от необычных для такого возраста мыслей, Афродита придумала, что я женат. Дочь не поверила ей и обещала переступить собственную гордость и самой спросить учителя при встрече.
М-да… Врать, конечно, не хотелось, но ситуацию надо было уладить. Поэтому, когда Медея заявила, что имеет вопрос не по математике, а… на личную тему, я был внутренне готов.
– Вы женаты? – спросила девочка, заливаясь пунцовой краской.
– А почему это тебя так интересует?
Медея вся напряглась, а потом, решительно тряхнула головой:
– Если вы холостой, то мы могли бы посвататься.
– Да или нет не играет никакой роли!
– Почему? Вы обручены или дали обет безбрачия?
– Потому что я уже вырос и мало изменюсь за несколько лет, а ты можешь измениться и стать другой. Как же я могу принимать решение вслепую? Предлагаю вернуться к этому вопросу лет через пять.
– Правда? – девочка просияла.
– Конечно. Пока у нас есть другие задачи. Мне надо университет закончить, а тебе школу. И обоим – хорошо учиться.
– Я – буду! И вы хорошо учитесь в своём университете!
Всё прошло к всеобщему удовлетворению. Медея год или полтора продолжала ходить на занятия, пока их семья не переехала в новый район.
Как-то раз я встретил Аню.
– Как поживает Медея? – спросил я. – Афродита больше не волнуется, что дочка рано замуж собирается?
– А она никогда об этом и не волновалась. Сама с седьмого класса искала подходящего мужа. Её смущало лишь одно – дочкина национальная неразборчивость. Но время всё исправит, сам увидишь.
Так и произошло. Ещё через два-три года я встретил Медею. Я взглянул на неё глазами гипотетического свата и отметил, что она не поступила в медицинский, вышла замуж за богатого грека из Цалки и забеременела. Ни одно из перечисленных качеств не вызвало моего энтузиазма, но впечатление оказалось больше всего подпорчено наследством Афродиты: толстым линзами очков и разрушенными кариесом зубами…
Другая девочка, по имени Даша, была симпатичная курносая шестиклассница. Думаю, что она нравилась одноклассникам, и была популярна. Она была из русской семьи, возможно её папа был военным, во всяком случае, грузинского она не изучала и знала лишь разные словечки «полового значения». И надо же, все эти вытесненные слова и образы сами просились на язык. Однажды Даша заметила у меня на книжной полке увеличенную фотографию обычной домашней мухи. На ней муха выглядела гигантской как ворона, и Даша решила, что это африканская муха цеце, укус которой вызывает сонную болезнь. Девочка решила похвастать своими знаниями и с гордостью заявила: “А я знаю, как эта муха называется! Это муха – дзудзу”. Комизм ситуации заключался в том, что по-грузински дзудзу – это женский сосок.
У меня было ещё много учеников-деток, но большинство из них не оставило следа в моей памяти. Я искренне учил их математике и физике, но, в отличие от школьных учителей, не жил их жизнью. У меня и своей хватало. Одни ученики старались, другие ленились, но занятия приносили им успех. Я понял, что неспособных или, как их называли, “тупых” учеников практически не бывает. Почти всегда под этим прозвищем скрывалось неумение учителя объяснить и заинтересовать, и лишь крайне редко – неспособность ученика запомнить. Скажу честно, на самом деле я встретил лишь одного ученика в жизни, который хотел, но не мог запоминать математику и физику. Я занимался с ним во взрослом возрасте, по дружбе бесплатно и страстно желал, чтобы исполнилась его мечта – поступить в авиационный институт. Увы, это было так же нереально, как мне – выиграть заплыв в соревнованиях по плаванию. С другой стороны, у меня есть опыт обучения векторной алгебре маленького ребёнка. На первом курсе я поставил эксперимент. Научил свою маленькую сестричку действиям с векторами. Когда к нам домой заходили мои однокурсники, они диву давались таким выдающимся способностям ребёнка, но я уже понял, что детей можно обучить сколь угодно сложному, если объяснить его сколь угодно просто.
Большинство школьников испытывало трудности при переходе от конкретных арифметических задач к формальным уравнениям алгебры. Им надо было помочь с основным принципом решения уравнений – переносом и сбором неизвестных в одной части уравнения, а известных – в другой. Для этого я рассказывал детям что-то вроде сказки, как древние маги и волшебники (читай – учёные) колдовали и произносили заклинание: “Аль Джебр!” что означало “известные – в одну сторону, неизвестные – в другую”. Так вот откуда взялось слово алгебра! Глазёнки у них загорались, мостик между детским миром и непонятной школьной гадостью устанавливался в ту же секунду. Алгебра больше не была чуждым миром взрослых, а начинала просачиваться в детское сознание как интересная игра. Сколько раз мама или бабушка, зайдя в большую комнату, заставали какого-нибудь мальчика или девочку “колдующими” над тетрадкой и с пафосом произносящие такое простое заклинание “Аль Джебр!” И скала задачки расступалась перед ними, как в сказке про Али-Бабу из “Тысяча и одной ночи”.
Но постепенно деток сменили старшеклассники. Эти уроки стоили дороже, и абитуриентов можно было объединять в группы. А физика постепенно вытеснила математику. Я как-никак учился на физфаке, но главным фактором в этом процессе послужил тот факт, что Саша после женитьбы стал больше нуждаться в деньгах и брать учеников. Нам было удобнее разделить сферы влияния и обмениваться учениками, готовящимися в технические ВУЗы. Но у меня ещё был независимый от Саши контингент абитуриентов, которые поступали в медицинские институты страны, куда нужно было сдавать экзамен по физике, но не по математике.
Подозреваю, что славу мне принесли именно эти пингвины. Стать врачом – была заветная цель для многих детей и их родителей. Места в мединституты продавались, конкурс был высоким, приём трудным. Тем не менее при закрытых дверях всегда оставалась форточка для упорных и настойчивых, чьи родители были готовы не постоять за ценой обучения, взамен стократ больших трат на взятки.
У меня была целая плеяда абитуриентов, сдавших физику на отлично и поступивших в медицинские институты страны. Одни из первых был сын Чичико, затем… нет я не сумею их перечислить, но все они были яркими личностями и талантливыми студентами. Надеюсь, что сейчас они – хорошие врачи и родители. Аж тост поднять хочется…
За двадцать лет преподавания я занимался по крайней мере с парой сотен учеников. Разумеется, это не сравнить с количеством учеников, которым оперировал средний школьный учитель. Но и качество среднего школьного преподавания, как и оплата труда среднего школьного учителя были также несоизмеримы. Большинство моих учеников начинало понимать и любить физику. Ну, если не любить, то относиться к ней по-дружески. А в наших взаимных симпатиях сомневаться не приходилось. Моя жена, которая появилась на арене в последнюю и самую насыщенную треть моего пингвинаторства, поразилась атмосфере, царящей на уроках, и отношениях, необычных для учителя-учеников. В тёплое время я брал своих пингвинчиков за город на пикник, жарил шашлык, играл на гитаре и рассказывал смешные истории из студенческой жизни. А они ценили не только качество объяснения физики, но и честность в обсуждении явлений жизни и то, что я уважал их мнение…
Особых историй у нас не случалось. И хорошо! Ученица товарища, переболев ангиной, а это был инфекционный мононуклеоз, вместо урока пошла с кавалером лазать по городским холмам, упала и… у неё произошёл разрыв селезёнки. В ужасе, что его обвинят в невнимании к судьбе ученицы, репетитор побежал навещать её в инфекционное отделение больницы. А там у него отняли одежду и поместили в карантин!
Но пару историй я всё же вспомню. Одна из них касалась… как бы это назвать поточнее – развития жизни. Не в смысле возникновения, а социальных изменений. Однажды три одноклассника, которые ходили ко мне на занятия и составляли группу, пропустили урок. Смываться с частных занятий было не принято, всё же взрослые дети понимали, что родители платят за них немало. Если кто-то заболевал, то либо друзья это знали, либо родители меня предупреждали. Но целой группой!? На следующий урок, через день, все ребята были на месте. На мой вопрос: “Что скажете?” – последовал необычный ответ:
– Вначале было приятно, а потом – нет.
– Что это значит?
Они переглянулись, покивали друг другу и решили: “Ник свой человек, ему можно сказать правду”. И они сознались:
– Мы пошли в подпольный публичный дом, там была облава, и родителям пришлось выкупать нас из застенков милиции.
Скажу честно, я им слегка завидовал. Не тому, что они побывали у проституток и в камере заключения, а тому что они знают такие злачные места уже в школьные годы, и что у них есть родители, которые могут выкупить своих детей.
Другая любопытная история произошла не с моим учеником, но я активно в ней участвовал. У нашего шефа в ГПИ, знатного пингвинатора, был один хороший ученик, сын нашего инженера, бывшего аспиранта ректора. Благодаря отличному аттестату, мальчику для поступления достаточно было набрать по математике и физике девять баллов из десяти. Экзамена по языку он страшно боялся и всеми мерами старался избежать. Но на экзамене по математике он допустил ошибку и получил справедливую четвёрку, а по физике… тоже получил четвёрку, но уверял, что несправедливую. Надо было идти на апелляцию, но пойти с ним было некому. Отец – не был профессионалом в подготовке абитуриентов, а учитель – заседал в приёмной комиссии. Так или иначе, шеф сказал:
– Я знаю только одного человека, который может успешно вас защитить. Это Ник. Обратитесь к нему.
И вся семья, завалила ко мне. Шеф не покривил душой. Я, действительно, готов был стоять за правду. Однако необходимо было убедиться, что работа на самом деле не содержит ошибок. И я начал допрашивать абитуриента. Я мучал его часа два. Из подробного описания работы следовало, что ошибок в ней не должно быть.
– Что ж. Я готов идти. Первое, что я затребую у комиссии – показать экзаменационную работу. Если в ней всё же окажутся ошибки, я не смогу болтать глупости и отрицать их. Я буду сражаться в случае придирок. А ты будешь помалкивать пока я не разрешу говорить. Всё! Пожелайте нам удачи.
Следующим утром вся компания собралась у Политехнического института. Летнее небо было синим, а солнце золотым. Отец абитуриента прикуривал одну сигарету от другой, а мама то и дело вытирала глаза и кончик носа. Наконец нас вызвали. За небольшим столиком сидел лысеющий, но всё ещё молодой сотрудник кафедры физики. Он проверил документы абитуриента и раскрыл экзаменационную работу.
– Пометки красным – это ошибки, – сказал он. – Тут и тут комиссия сняла по полбала, так что четыре балла – это справедливая оценка.
Я быстро взглянул на пометки. Это были придирки. В одном случае мальчик называл Ньютона – Нютоном (без мягкого знака), а в другом – криво-косо подписал цифры при сложении и вычитании, но результаты получил верные. Надо было сражаться – физикой здесь и не пахло.
Я медленно расстегнул змейку на моей кожаной папке: на одной стороне, на другой, наконец – на третьей, раскрыл папку, достал из неё чистый лист бумаги и авторучку, потом закрыл папку, отвинтил крышку авторучки и, глядя прямо в глаза собеседнику, сказал:
– Назовите свою фамилию и имя по буквам! Первым – имя.
Член приёмной комиссии побелел как от шока и залепетал:
– Почему? За что? Что я вам сделал?
– Назовите себя и вызывайте председателя комиссии, – сказал я голосом наёмного убийцы, и экзаменатор нехотя подчинился.
Через пять минут явился председатель комиссии, который представился сам, без запроса. Тогда представился и я, как друг семьи аспиранта ректора. Я сказал:
– Я вижу, что произошло недоразумение, небольшая неточность. Ошибок в работе абитуриента нет, есть лишь помарки, за которые специалисты-физики баллов не снижают. Это понятно и вам, и мне, и отцу абитуриента. Мне кажется, что будет совершенно неправильно, если отец абитуриента обратится с жалобой на необъективность комиссии к своему научному руководителю – ректору. Может, вы сами устраните неточность? Взгляните – физические и математические ошибки отсутствуют.
Председатель комиссии глубоко вздохнул, вытер со лба выступивший пот и проворчал:
– Ох уж эти аккуратисты, нашли к чему придраться! Разумеется, у вас нет причин для волнения. После обеда мы вывесим результаты апелляций в фойе, и вы сможете во всём убедиться сами.
Играть надо было по правилам. Я тепло поблагодарил председателя комиссии за объективность и отеческую заботу о молодом поколении. Мы вышли из здания. У мамы лицо припухло от слёз, а у папы – от никотина.
– Папа, мама! – заорал счастливый парень.
– После обеда вывесят результаты апелляций, и “война” закончится. Но, похоже, что мы победили, – добавил я.
Всё так и случилось. Вечером счастливое семейство подарило мне декоративную настенную тарелку, кобальтовую с золотом. Она и по сей день украшает наш домашний сервант, напоминая о жаркой поре вступительных экзаменов, когда утреннее небо выглядит синим, а солнце – золотым.